Системное мышление и дизайн-мышление: в поисках принципов в мире, который мы создаём
Ричард Бьюкенен
Источник
Работа опубликована в журнале She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, Том 5, выпуск 2, лето 2019 г.
Перевод — Виталий Федосов
Редактура — Мария Казачкова
Работа опубликована в журнале She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, Том 5, выпуск 2, лето 2019 г.
Перевод — Виталий Федосов
Редактура — Мария Казачкова

Аннотация
Хотя концепция системы была частью теории и практики дизайна с самого начала существования этой дисциплины, сегодня вновь наблюдается интерес к взаимосвязи системного мышления и дизайна. Рассмотрев области неоднозначности в общепринятом определении этого понятия, мы можем выделить четыре совершенно разных толкования того, что такое система, как она функционирует и каким общим целям системы могут служить. Это подводит нас к рассмотрению ценности и ограничений системного мышления и системного анализа для дизайна. Системный анализ не даёт чёткого определения проблем, которые могут решать дизайнеры. Тогда как дизайн отвлекается от сложности ситуаций и окружения и обращается к препятствиям и проблемам, с которыми сталкиваются люди в конкретных ситуациях, создавая среду, которая может поддерживать и улучшать качество человеческого опыта. Дизайн — это преобразование окружения в среду человеческого опыта. Мы достигли момента, когда важно начать обсуждение принципов дизайна и среды, которую мы стремимся создать.
В наше время всё большее беспокойство вызывают принципы, на которых основаны многие важнейшие системы нашей жизни, и дизайнерское сообщество остро реагирует на вопросы о степени участия дизайна в этих системах. Как дизайнерам справиться с растущей сложностью, с которой мы сталкиваемся в связи с развитием искусственного интеллекта, растущей ролью информационных технологий в повседневной жизни и всё более ограниченной ролью дизайна в принятии фундаментальных решений, касающихся этих систем?
Простых ответов нет, но лучше всего начать с оценки того, что означает сама идея систем в дизайне и куда могут привести дизайнерские представления о системах. Цель данной статьи — обсудить некоторые фундаментальные идеи, лежащие в основе концепции «систем» в дизайне. Она не претендует на обзор литературы, возникшей вокруг относительно нового движения системного дизайна, и не является критикой этого течения или направления, которое всё ещё находится в стадии становления благодаря исследованиям взаимосвязи системного мышления и дизайна на таких конференциях, как «Relating Systems Thinking and Design». Скорее, статья стремится выявить разнообразие способов применения и осмысления концепции систем в дизайн-сообществе, признавая плюрализм подходов, обоснованных и полезных для теории дизайна и исследований в этой области. В статье также предлагаются некоторые выводы, которые, возможно, следует учитывать студентам, дизайнерам, исследователям и теоретикам дизайна по мере развития этой области при решении коварных проблем (англ. wicked problems – злободневные проблемы экономического, экологического или политического характера, которые невозможно решить окончательно или для которых не существует единого решения, например, изменение климата, стихийные бедствия, пандемия гриппа, социальная несправедливость, бездомность), лежащих в основе сложной среды, в которой функционирует дизайн сегодня и в которой люди живут, играют, работают и учатся. Таким образом мы сможем лучше понять взаимосвязь между системным мышлением и дизайн-мышлением, а также по-новому взглянуть на системные подходы в дизайне.
Простых ответов нет, но лучше всего начать с оценки того, что означает сама идея систем в дизайне и куда могут привести дизайнерские представления о системах. Цель данной статьи — обсудить некоторые фундаментальные идеи, лежащие в основе концепции «систем» в дизайне. Она не претендует на обзор литературы, возникшей вокруг относительно нового движения системного дизайна, и не является критикой этого течения или направления, которое всё ещё находится в стадии становления благодаря исследованиям взаимосвязи системного мышления и дизайна на таких конференциях, как «Relating Systems Thinking and Design». Скорее, статья стремится выявить разнообразие способов применения и осмысления концепции систем в дизайн-сообществе, признавая плюрализм подходов, обоснованных и полезных для теории дизайна и исследований в этой области. В статье также предлагаются некоторые выводы, которые, возможно, следует учитывать студентам, дизайнерам, исследователям и теоретикам дизайна по мере развития этой области при решении коварных проблем (англ. wicked problems – злободневные проблемы экономического, экологического или политического характера, которые невозможно решить окончательно или для которых не существует единого решения, например, изменение климата, стихийные бедствия, пандемия гриппа, социальная несправедливость, бездомность), лежащих в основе сложной среды, в которой функционирует дизайн сегодня и в которой люди живут, играют, работают и учатся. Таким образом мы сможем лучше понять взаимосвязь между системным мышлением и дизайн-мышлением, а также по-новому взглянуть на системные подходы в дизайне.
Концепция систем в дизайне
Концепция системы была частью теории и практики дизайна с самого его зарождения и становления разнообразных дисциплин и практик. Иногда этот термин лишь подразумевается, потому что его место занимают другие эквивалентные термины, такие как структура, форма, функциональность, организация и множество других. Примером может служить работа Герберта Саймона «Структура плохо структурированных проблем» («The Structure of Ill-structured Problems»), где автор рассматривает статус проблем дизайна в «системах решения проблем искусственного интеллекта». В других случаях термин употребляется прямо, в той или иной вариации, — как, например, в рассуждении Джона Криса Джонса «Метод систематического проектирования» («A Method of Systematic Design») или работе Брюса Арчера «Систематический метод для дизайнеров» («Systematic Method for Designers»). Нет ничего тонкого или эзотерического в исследовании систем в дизайне. Это очевидно из общепринятого определения системы:
Система — это взаимосвязь частей, которые работают вместе организованным образом для достижения общей цели.
Каждый дизайнер, независимо от его философии, школы практики или подхода к дизайну, узнает в этом определении характеристику (1) начального понимания проблемы для дизайнерского исследования; (2) продукта; (3) методов дизайнерской практики; (4) стратегий, контекстных взаимодействий и экономических, социальных и культурных взаимозависимостей, которые должны быть учтены в теории и на практике. Каждый продукт представляет собой систему частей, работающих вместе для достижения общей цели, будь то графическое объединение типографики, изображений, цвета и узора на плакате; интегрированное функционирование физического объекта; последовательность запланированных действий, коммуникаций и обменов в рамках услуги или любого другого человеческого взаимодействия; сложность динамических и развивающихся организаций, сред и систем. Более того, дизайнеры давно осознали, что продукты функционируют в более широких системах и системах систем. Это проявилось в основании Немецкого Веркбунда (Deutscher Werkbund) в 1907 году, в последующем рождении Баухауса (Bauhaus) в 1919 году, в дальнейшем развитии Нового Баухауса в Чикаго в 1937 году, в основании Высшей школы дизайна (Hochschule für Gestaltung Ulm) в 1953 году и в дальнейшем развитии школ дизайна по всему миру. На языке системного анализа продукты представляют собой подсистемы внутри иерархии всё более обширных контекстов и всё более обширных систем.
Вальтер Гропиус выражает эту идею в работе «Круг тотальной архитектуры», где он объясняет культурное значение Баухауса как конструктивного ответа на опустошение Первой мировой войны. Тотальная архитектура, о которой он говорит, — это архитектоническое искусство, где «архитектоника» означает не архитектуру как отдельную отрасль дизайна, а всеобъемлющий принцип дизайна вообще, систему искусств и методов, более соответствующую изначальному значению архитектоники в философии как выражения организующего принципа. В свою очередь, он говорит о сотрудничестве индивидов как частей целого, работающих вместе и согласованно ради достижения общей цели, — о системе методов, применяемых на практике. Наконец, система согласованной работы символизирует (слово Гропиуса) кооперативный организм общества — более развитую систему, которая окружает и обусловливает работу дизайна.
Вальтер Гропиус выражает эту идею в работе «Круг тотальной архитектуры», где он объясняет культурное значение Баухауса как конструктивного ответа на опустошение Первой мировой войны. Тотальная архитектура, о которой он говорит, — это архитектоническое искусство, где «архитектоника» означает не архитектуру как отдельную отрасль дизайна, а всеобъемлющий принцип дизайна вообще, систему искусств и методов, более соответствующую изначальному значению архитектоники в философии как выражения организующего принципа. В свою очередь, он говорит о сотрудничестве индивидов как частей целого, работающих вместе и согласованно ради достижения общей цели, — о системе методов, применяемых на практике. Наконец, система согласованной работы символизирует (слово Гропиуса) кооперативный организм общества — более развитую систему, которая окружает и обусловливает работу дизайна.
“
Я понял также, что добиться этого [воспитание нового поколения, работающего с современными средствами производства] можно, лишь привлекая к делу большое число единомышленников и помощников, людей, которые станут действовать не как оркестр, покорный дирижерской палочке, но независимо, хотя и в тесном взаимодействии, продвигая общее дело. Вследствие этого я постарался в своей работе сделать акцент на интеграции и координации, на включающем, не исключающем подходе, ибо чувствовал, что искусство архитектуры зависит от скоординированной командной работы группы активных сотрудников, взаимодействие которых символизирует взаимодействие также в том организме, что именуется обществом.
Так в 1919 году был торжественно открыт Баухаус – с особенной задачей создать современное искусство архитектуры, которое стало бы всеохватным, как сама человеческая природа.
Так в 1919 году был торжественно открыт Баухаус – с особенной задачей создать современное искусство архитектуры, которое стало бы всеохватным, как сама человеческая природа.
Гропиус признавал, что все направления дизайна, действуя вместе, предлагают способ создания более совершенных систем, способных противостоять разрушительным проявлениям человеческого поведения и устаревшим обычаям, выявленным Первой мировой войной. Существует обоснованная критика концепции Баухауса и её результатов, но любая критика, не учитывающая контекст, в котором действовал Баухаус, оказывается несостоятельной.
Ласло Мохой-Надь аналогичным образом выразил идею систем в работе «Потенциалы дизайна» — его основополагающем изложении идей Нового Баухауса в Чикаго. Он говорит о важности понимания дизайна и его продуктов в контексте природных, технологических, биологических и социальных систем с их экономическими, психологическими и социологическими требованиями. Взаимосвязь со всеми этими системами, по его мысли, раскрывает компоненты функционального дизайна. Концепция функциональности, которую сегодня иногда критикуют как слишком узкую, не была таковой для Мохой-Надя. Как следует из его утверждений, это была системная концепция со множеством измерений. Более того, тема систем встречается в программах и приглашенных лекциях в Высшей школе формообразования в Ульме (HfG Ulm), а также в работах таких исследователей, как Герберт Саймон, и участники движения методов дизайна (Design Methods Movement, DMM) 1960-х годов. С самого начала дизайна системы и системное мышление были насущной и часто живой темой для дискуссии, помещающей практическую работу дизайнеров в более широкие контексты.
Действительно, повестка вышеупомянутых институтов включает в себя как успехи, так и неудачи, открытые для критики. Однако это свидетельствует не о неспособности дизайнеров осознать значение систем, системного мышления или системного анализа, а, скорее, о плюрализме подходов к исследованию дизайна и систем, сохраняющемся по мере получения новых инсайтов и появления новых творческих возможностей. Более того, это демонстрирует опасность философской «ловушки»: застревание в той или иной теории систем и игнорирование инсайтов, которые могут возникнуть при рассмотрении других точек зрения. Одной из самых сильных сторон дизайна в прошлом веке стала его сосредоточенность на конкретном человеческом опыте: на вопросах и проблемах, с которыми люди сталкиваются в своей жизни, и на том, что они могут создать, воплотить в продуктах для решения этих вопросов, — без чрезмерной идеологической озабоченности различиями в теории и философии дизайнеров, течений или школ. Дизайн в некотором смысле подобен естественным наукам. Отдельные учёные могут придерживаться самых разных принципов в отношении природных явлений, но сама наука процветает благодаря тому, что направлена в первую очередь на понимание изучаемых явлений. Важнее понимание явлений, которое может быть получено на основе разных принципов исследования, чем споры о том, какие принципы истиннее, правильнее или обоснованее. Аналогичным образом дизайн процветает, когда плюрализм подходов ценится за то, что разные идеи способствуют решению общих задач созидания и удовлетворения потребностей людей.
Однако в первые десятилетия XXI века концепция системы вновь привлекла внимание теоретиков дизайна и дизайнеров. Тому есть несколько объяснений. Старые системы обнаруживают признаки перегрузки, по мере роста населения по всему миру выходя иногда из строя. Системы, разработанные для операций одного масштаба, теперь должны поддерживать гораздо более масштабные потребности. В то же время новые технологические системы, поддерживаемые искусственным интеллектом, предлагают инновационные возможности для «интерфейсного опыта» в человеческих отношениях, а также в наших отношениях с миром артефактов и природы. Нас окружает сеть социотехнических систем, и задача дизайнеров – сглаживать острые углы и совершенствовать новые продукты, которые могут эффективнее служить человеческому сообществу.
Конечно, всё это — утилитарные причины интереса дизайнеров к системам. Но могут быть и более глубокие причины. Разрушились ли наши системы просто из-за возросшего масштаба задач, для решения которых они были разработаны, или они разрушаются потому, что принципы, на которых они изначально разработаны, больше не воспринимаются как соответствующие сложности, возможностям и стремлениям современной жизни? Ещё более тревожно прозвучит вопрос о том, не отказались ли дизайнеры и организации, в которых они работают, от принципов, определявших системы в прошлом. Публичное обсуждение проблем цифровых платформ социальных сетей — лишь один из примеров. В более общем плане: не утратили ли мы принципы проектирования и разработки систем? Имеются некоторые свидетельства того, что наши крупнейшие технологические системы и организации, ответственные за эти системы, больше не отражают ценности и цели, которые направляли и регулировали их на ранних этапах развития. Наш возрождённый интерес к системам, возможно, отражает растущее понимание того, что мы больше не можем игнорировать или откладывать на потом коварные проблемы, лежащие в основе созданных человеком систем, где ценности и цели, по сути, оспариваются группами интересов и часто находятся в глубоком конфликте. Сегодня мы обсуждаем системы в дизайнерском сообществе потому, что испытываем беспокойство и неопределённость относительно принципов, лежащих в основе систем, и, возможно, ещё большую неопределённость относительно принципов самого дизайна. Дизайнеры осознают необходимость творческого исследования при изучении природы систем и управляющих ими принципов.
Ласло Мохой-Надь аналогичным образом выразил идею систем в работе «Потенциалы дизайна» — его основополагающем изложении идей Нового Баухауса в Чикаго. Он говорит о важности понимания дизайна и его продуктов в контексте природных, технологических, биологических и социальных систем с их экономическими, психологическими и социологическими требованиями. Взаимосвязь со всеми этими системами, по его мысли, раскрывает компоненты функционального дизайна. Концепция функциональности, которую сегодня иногда критикуют как слишком узкую, не была таковой для Мохой-Надя. Как следует из его утверждений, это была системная концепция со множеством измерений. Более того, тема систем встречается в программах и приглашенных лекциях в Высшей школе формообразования в Ульме (HfG Ulm), а также в работах таких исследователей, как Герберт Саймон, и участники движения методов дизайна (Design Methods Movement, DMM) 1960-х годов. С самого начала дизайна системы и системное мышление были насущной и часто живой темой для дискуссии, помещающей практическую работу дизайнеров в более широкие контексты.
Действительно, повестка вышеупомянутых институтов включает в себя как успехи, так и неудачи, открытые для критики. Однако это свидетельствует не о неспособности дизайнеров осознать значение систем, системного мышления или системного анализа, а, скорее, о плюрализме подходов к исследованию дизайна и систем, сохраняющемся по мере получения новых инсайтов и появления новых творческих возможностей. Более того, это демонстрирует опасность философской «ловушки»: застревание в той или иной теории систем и игнорирование инсайтов, которые могут возникнуть при рассмотрении других точек зрения. Одной из самых сильных сторон дизайна в прошлом веке стала его сосредоточенность на конкретном человеческом опыте: на вопросах и проблемах, с которыми люди сталкиваются в своей жизни, и на том, что они могут создать, воплотить в продуктах для решения этих вопросов, — без чрезмерной идеологической озабоченности различиями в теории и философии дизайнеров, течений или школ. Дизайн в некотором смысле подобен естественным наукам. Отдельные учёные могут придерживаться самых разных принципов в отношении природных явлений, но сама наука процветает благодаря тому, что направлена в первую очередь на понимание изучаемых явлений. Важнее понимание явлений, которое может быть получено на основе разных принципов исследования, чем споры о том, какие принципы истиннее, правильнее или обоснованее. Аналогичным образом дизайн процветает, когда плюрализм подходов ценится за то, что разные идеи способствуют решению общих задач созидания и удовлетворения потребностей людей.
Однако в первые десятилетия XXI века концепция системы вновь привлекла внимание теоретиков дизайна и дизайнеров. Тому есть несколько объяснений. Старые системы обнаруживают признаки перегрузки, по мере роста населения по всему миру выходя иногда из строя. Системы, разработанные для операций одного масштаба, теперь должны поддерживать гораздо более масштабные потребности. В то же время новые технологические системы, поддерживаемые искусственным интеллектом, предлагают инновационные возможности для «интерфейсного опыта» в человеческих отношениях, а также в наших отношениях с миром артефактов и природы. Нас окружает сеть социотехнических систем, и задача дизайнеров – сглаживать острые углы и совершенствовать новые продукты, которые могут эффективнее служить человеческому сообществу.
Конечно, всё это — утилитарные причины интереса дизайнеров к системам. Но могут быть и более глубокие причины. Разрушились ли наши системы просто из-за возросшего масштаба задач, для решения которых они были разработаны, или они разрушаются потому, что принципы, на которых они изначально разработаны, больше не воспринимаются как соответствующие сложности, возможностям и стремлениям современной жизни? Ещё более тревожно прозвучит вопрос о том, не отказались ли дизайнеры и организации, в которых они работают, от принципов, определявших системы в прошлом. Публичное обсуждение проблем цифровых платформ социальных сетей — лишь один из примеров. В более общем плане: не утратили ли мы принципы проектирования и разработки систем? Имеются некоторые свидетельства того, что наши крупнейшие технологические системы и организации, ответственные за эти системы, больше не отражают ценности и цели, которые направляли и регулировали их на ранних этапах развития. Наш возрождённый интерес к системам, возможно, отражает растущее понимание того, что мы больше не можем игнорировать или откладывать на потом коварные проблемы, лежащие в основе созданных человеком систем, где ценности и цели, по сути, оспариваются группами интересов и часто находятся в глубоком конфликте. Сегодня мы обсуждаем системы в дизайнерском сообществе потому, что испытываем беспокойство и неопределённость относительно принципов, лежащих в основе систем, и, возможно, ещё большую неопределённость относительно принципов самого дизайна. Дизайнеры осознают необходимость творческого исследования при изучении природы систем и управляющих ими принципов.
Неоднозначность концепции систем
Серьёзное рассмотрение взаимосвязи систем и дизайна должно начинаться с признания глубокой неоднозначности самого понятия системы. Конечно, многие дискуссии о системах и системном мышлении быстро обходят стороной эту неоднозначность, предпочитая вместо этого перейти к той или иной излюбленной теории, а таких теорий существует множество. Тем не менее осознание этой неоднозначности важно для понимания многообразия точек зрения, существующих в литературе и на практике. Эта неоднозначность проявляется в любом распространённом определении системы. Общие определения служат для того, чтобы дать общее представление о термине, позволяя развивать дискуссию даже между конкурирующими подходами. Как правило, такие определения выявляют области неоднозначности, где возникают различия в толковании, что приводит к разному пониманию, направлениям исследований и более конкретным определениям систем. Существует четыре области для неоднозначности и потенциальных споров в изучении систем (рис. 1).
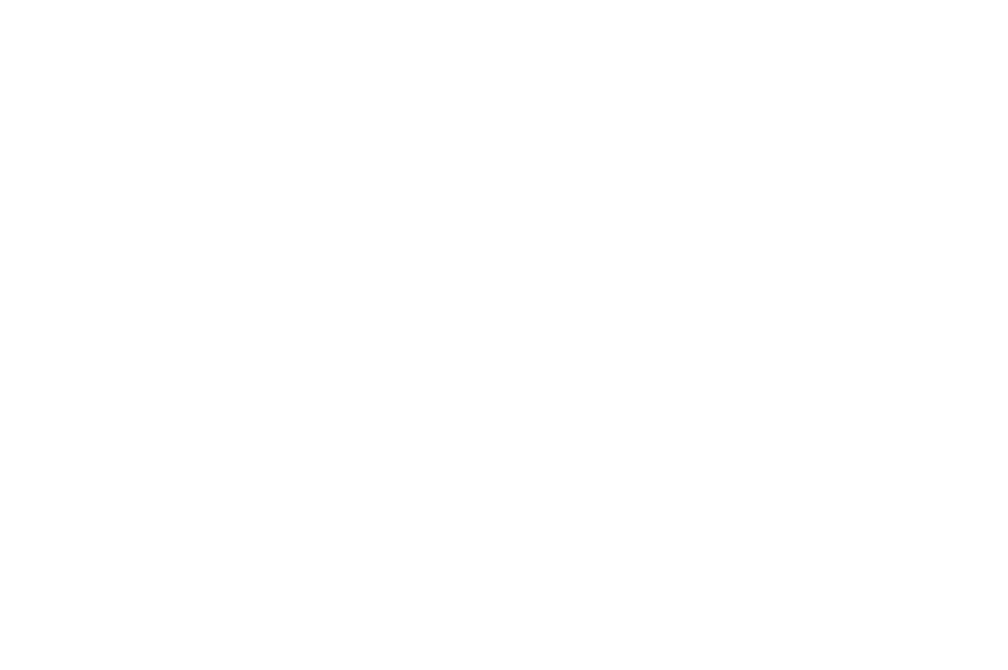
Рисунок 1. Стратегические неоднозначности в определении систем
Первый вопрос заключается в том, существует ли система. Доказательство её существования начинается с восприятия взаимосвязи между частями и целым в нашем окружении. Конечно, мы не ощущаем целостность системы непосредственно, но можем распознать взаимосвязь между явлениями, которые мы воспринимаем и переживаем. Эти явления могут быть выбраны из обширного множества данных нам в процессе взаимодействия с миром. Выбор может осуществляться среди символов и действий, физических объектов и эмоциональных реакций на них, упорядоченной последовательности событий и явлений вокруг нас, мыслей и идей, которые люди формируют в процессе размышления или действия. Любое из этого может быть фокусом внимания и источником данных. Потенциал наличия целостности, характеризующей систему, — переход от размытого и неопределённого состояния к потенциально единому целому, — и есть отправная точка исследования. Вопрос наличия целостности может показаться бесспорным, поскольку существует общее согласие в том, что мы постоянно имеем дело с системами, и существует определённое общее согласие относительно предмета, находящегося в фокусе внимания. Тем не менее это наиболее глубокий и спорный вопрос в изучении систем и дизайна, поскольку это вопрос принципов, возникающих в теории и на практике. Является ли система материальным устройством? Произвольным множеством? Органической группой? Гармоничным и упорядоченным состоянием? Эти определения представляют разные принципы, которые могут объяснить целостность взаимосвязей, которые мы изначально воспринимаем. Более того, этот вопрос часто сопровождается не только предварительным или потенциальным принципом, гипотезой о неопределённой ситуации, но и обсуждением происхождения систем. Поиск происхождения может включать в себя различия между естественным, искусственным и духовным. В свою очередь, искусственное может подразумевать множество возможных источников, сформированных человеческими потребностями и желаниями, разными политическими или экономическими силами, духовным откровением или любым из множества человеческих мотивов. Поскольку принцип — это одновременно начало и конец, дискуссии о происхождении вполне уместны.
Второй вопрос — что именно систематизируется. Здесь дискуссия переходит от доказательств существования целостности и происхождения систем к рассмотрению частей, которые подлежат систематизации. Ответ на этот второй вопрос достигается путем обнаружения и перечисления частей или компонентов системы. На этом этапе сама природа частей — область неоднозначного. Части могут быть физическими или материальными, это могут быть объекты, люди, действия, продукты, идеи, убеждения, практики и многие другие компоненты. Важно понимать, что независимо от того, говорим ли мы о частях, элементах, компонентах, единицах или используем какой-либо другой термин, список возможных видов частей обширен и весьма разнообразен. Понимание соответствующих частей потенциальной системы раскрывает характер проводимого системного исследования и позволяет лучше понять изменения, которые могут повлиять на результат динамической системы.
Третий вопрос заключается в том, как компоненты организованно взаимодействуют друг с другом. Фраза «взаимодействуют» указывает на динамику изменения ситуации, а изменение раскрывает взаимозависимость и взаимосвязи компонентов при их взаимодействии. Это приводит к дискуссии о том, как функционирует система. Работают ли компоненты вместе посредством взаимного влияния, взаимодействия, динамического обмена или какой-либо другой формы или процесса взаимодействия? Этот вопрос касается деятельности системы, и вокруг него возникают многие из часто обсуждаемых аспектов систем. Является ли система сложной или просто запутанной? Каковы эмерджентные свойства системы, относящиеся к целостности системы, а не к индивидуальным свойствам ее частей? Существует ли в системе иерархия с явными подсистемами? Система открыта или закрыта? Устойчива ли она к внутренним или внешним потрясениям? В свою очередь, этот вопрос приводит к дискуссии о поведенческих свойствах системы в целом. Является ли она самоорганизующейся? Адаптивна ли она? Эволюционирует ли она? Неоднозначность заключается в том, как мы объясняем процесс изменений и работу системы.
Четвертый вопрос: почему существует система. Какой цели служит деятельность системы? Каковы функция, цель, ценность или принцип, объединяющие систему в целом? Конечно, именно здесь различия между естественными, искусственными, духовными и философскими системами становятся наиболее существенными. Если система создана человеком, каково намерение, стоящее за ней? В её функционировании есть реальное намерение или лишь случайность и непредвиденность? Достаточно ли намерение для долгосрочной устойчивости системы? Каковы критерии успешной системы или системного вмешательства? Является ли система справедливой, честной и поддерживающей людей и их неотъемлемое достоинство? Вопросы ценностей и принципов обретают в этой проблеме сложность; различие между первоначальными принципами и относительными первоначальными принципами часто становится предметом философских, этических и политических споров.
Второй вопрос — что именно систематизируется. Здесь дискуссия переходит от доказательств существования целостности и происхождения систем к рассмотрению частей, которые подлежат систематизации. Ответ на этот второй вопрос достигается путем обнаружения и перечисления частей или компонентов системы. На этом этапе сама природа частей — область неоднозначного. Части могут быть физическими или материальными, это могут быть объекты, люди, действия, продукты, идеи, убеждения, практики и многие другие компоненты. Важно понимать, что независимо от того, говорим ли мы о частях, элементах, компонентах, единицах или используем какой-либо другой термин, список возможных видов частей обширен и весьма разнообразен. Понимание соответствующих частей потенциальной системы раскрывает характер проводимого системного исследования и позволяет лучше понять изменения, которые могут повлиять на результат динамической системы.
Третий вопрос заключается в том, как компоненты организованно взаимодействуют друг с другом. Фраза «взаимодействуют» указывает на динамику изменения ситуации, а изменение раскрывает взаимозависимость и взаимосвязи компонентов при их взаимодействии. Это приводит к дискуссии о том, как функционирует система. Работают ли компоненты вместе посредством взаимного влияния, взаимодействия, динамического обмена или какой-либо другой формы или процесса взаимодействия? Этот вопрос касается деятельности системы, и вокруг него возникают многие из часто обсуждаемых аспектов систем. Является ли система сложной или просто запутанной? Каковы эмерджентные свойства системы, относящиеся к целостности системы, а не к индивидуальным свойствам ее частей? Существует ли в системе иерархия с явными подсистемами? Система открыта или закрыта? Устойчива ли она к внутренним или внешним потрясениям? В свою очередь, этот вопрос приводит к дискуссии о поведенческих свойствах системы в целом. Является ли она самоорганизующейся? Адаптивна ли она? Эволюционирует ли она? Неоднозначность заключается в том, как мы объясняем процесс изменений и работу системы.
Четвертый вопрос: почему существует система. Какой цели служит деятельность системы? Каковы функция, цель, ценность или принцип, объединяющие систему в целом? Конечно, именно здесь различия между естественными, искусственными, духовными и философскими системами становятся наиболее существенными. Если система создана человеком, каково намерение, стоящее за ней? В её функционировании есть реальное намерение или лишь случайность и непредвиденность? Достаточно ли намерение для долгосрочной устойчивости системы? Каковы критерии успешной системы или системного вмешательства? Является ли система справедливой, честной и поддерживающей людей и их неотъемлемое достоинство? Вопросы ценностей и принципов обретают в этой проблеме сложность; различие между первоначальными принципами и относительными первоначальными принципами часто становится предметом философских, этических и политических споров.
Системы и способы мышления
Общепринятое определение систем и его неоднозначность — лишь начало дискуссии о системах. Дискуссия приводит к более точным определениям, подходящим для разных дисциплин и охватывающим широкий спектр явлений. Среди множества определений выделяются несколько групп, которые повторяются в литературе, словарях и в отдельных дисциплинах. В свою очередь, эти определения основаны на небольшом числе ключевых терминов, которые повторяются по отдельности или объединены в определённой закономерности. Некоторые из ключевых терминов: расположение, сборка, совокупность, множество, группа, организация, схема, план и состояние. Эти термины часто могут быть хаотично и произвольно объединены или разделены. Это очевидно из многообразия словарных определений систем. Например, в Оксфордском словаре английского языка (ОСА) система определяется как «множество или совокупность связанных, ассоциированных или взаимозависимых вещей, образующих сложное целое». Далее в списке определений ОСА в общем или специальном употреблении система также определяется как группа, схема, план и т. д.
Словари — полезный источник общеупотребительных определений, если выходить за их рамки и обращаться к идеям, лежащим в их основе и ведущим к дальнейшим определениям. Словари — это социальные и культурные документы, отражающие различные варианты употребления и толкования терминов, сформировавшиеся в течение длительного периода в человеческом сообществе. Более того, словарные определения часто отражают различные способы мышления и философские предпосылки, лежащие в основе общепринятого употребления. Словари отражают разнообразие вариантов употребления и мнений людей — как обычных, так и экспертов — относительно определяемой темы или понятия; они дают представление о плюрализме идей, сформировавшихся за годы дискуссий.
Определения систем распадаются на четыре обширных кластера, каждый из которых представлен ключевым термином или темой. Более того, в структуре определений присутствует логика. Каждое определение основано на конкретном способе мышления:
Словари — полезный источник общеупотребительных определений, если выходить за их рамки и обращаться к идеям, лежащим в их основе и ведущим к дальнейшим определениям. Словари — это социальные и культурные документы, отражающие различные варианты употребления и толкования терминов, сформировавшиеся в течение длительного периода в человеческом сообществе. Более того, словарные определения часто отражают различные способы мышления и философские предпосылки, лежащие в основе общепринятого употребления. Словари отражают разнообразие вариантов употребления и мнений людей — как обычных, так и экспертов — относительно определяемой темы или понятия; они дают представление о плюрализме идей, сформировавшихся за годы дискуссий.
Определения систем распадаются на четыре обширных кластера, каждый из которых представлен ключевым термином или темой. Более того, в структуре определений присутствует логика. Каждое определение основано на конкретном способе мышления:
- способе взаимодействия с нашим окружением и окружающей средой;
- способе мышления о мире;
- способе изучения явлений и осмысления нашего опыта;
- способе направления исследований и практических действий.
“
Даже при нетехническом рассмотрении мышления можно выделить четыре способа мышления: это процесс, посредством которого части соединяются, или аппроксимируются глобальные истины, или решаются проблемы, или интерпретируются произвольные формулировки.
МакКеон называет четыре способа и объясняет основное предположение, на котором основан каждый из них (таблица 1).
Таблица 1. Четыре способа мышления, используемые для различения значений важных теоретических и практических терминов
Хотя МакКион на протяжении своей долгой карьеры занимался проблемами в самых разных дисциплинах, его работы в период с 1968 по 1972 год имеют особое значение для дизайна. В таких эссе, как «Применение риторики в технологическую эпоху: архитектурно-производственные искусства» (The Uses of Rhetoric in a Technological Age: Architectonic Productive Arts), «Философия коммуникаций и искусства» (The Philosophy of Communications and the Arts) и «Факт и ценность в философии культуры» (Fact and Value in the Philosophy of Culture), МакКион закладывает основы гуманистического подхода к коммуникациям и конструированию, который и поныне значим для развития теории и практики дизайна. Этот подход резко контрастирует с работой Герберта Саймона «Науки об искусственном» (The Sciences of the Artificial (1968)) и его видением неопозитивистского подхода к дизайну. Период с 1968 по 1972 год имел большее значение для дизайна, чем принято считать. Его влияние распространяется и сегодня в различиях между концепцией искусственного интеллекта (парадигма, в которой ИИ может заменить человека) и концепцией усиленного интеллекта (Intelligence Amplification, IA; парадигма, в которой ИИ дополняет и усиливает человека). Чикагское звено дизайнерской мысли, возникшее в 1968–1972 годах и связавшее Дьюи (преподававшего в Чикаго и повлиявшего на университет), Мохой-Надя (друга Дьюи, оказавшего влияние на Новый Баухаус в Чикаго), Саймона (ученика неопозитивиста Рудольфа Карнапа в Чикаго) и МакКиона (декана и профессора Чикаго, ученика Дьюи и Ф. Дж. Э. Вудбриджа в Колумбийском университете, а также Этьена Жильсона в Париже), заслуживает пристального внимания, если мы хотим понять гуманистический поворот в теории и практике дизайна. Это также помогает объяснить разницу между развитием гуманистической философии дизайна и неопозитивистской философией дизайна Саймона и других, а также возникновение риторики и диалектики в дизайне в последующие десятилетия.
Четыре способа мышления проявляются в четырёх основных группах общепринятых определений системы (рис. 2). Первая группа определений хорошо известна: система — это УСТРОЙСТВО взаимодействующих частей или тел, объединённых под воздействием связанных сил. Иногда устройство заменяют компоновкой, но общий смысл очевиден. Ключевой термин часто встречается в контексте той или иной науки, например, физики или химии. Но он может встречаться и при обсуждении явлений в социальной науке и экономике. Части, как правило, являются физическими или материальными объектами, а силы, воздействующие на части, обычно рассматриваются как естественные, хотя часто к ним добавляются силы условностей, человеческого поведения, закона и обычаев, которые также играют важную роль. С этой точки зрения системы представляют собой способ конструирования. Конструирование — это процесс, посредством которого части собираются в структуру или устройство. Оно основано, как описывает МакКион, на допущении о существовании наименьших частей и идее о том, что нет целого, кроме как комбинации частей под воздействием внешних сил.
Четыре способа мышления проявляются в четырёх основных группах общепринятых определений системы (рис. 2). Первая группа определений хорошо известна: система — это УСТРОЙСТВО взаимодействующих частей или тел, объединённых под воздействием связанных сил. Иногда устройство заменяют компоновкой, но общий смысл очевиден. Ключевой термин часто встречается в контексте той или иной науки, например, физики или химии. Но он может встречаться и при обсуждении явлений в социальной науке и экономике. Части, как правило, являются физическими или материальными объектами, а силы, воздействующие на части, обычно рассматриваются как естественные, хотя часто к ним добавляются силы условностей, человеческого поведения, закона и обычаев, которые также играют важную роль. С этой точки зрения системы представляют собой способ конструирования. Конструирование — это процесс, посредством которого части собираются в структуру или устройство. Оно основано, как описывает МакКион, на допущении о существовании наименьших частей и идее о том, что нет целого, кроме как комбинации частей под воздействием внешних сил.
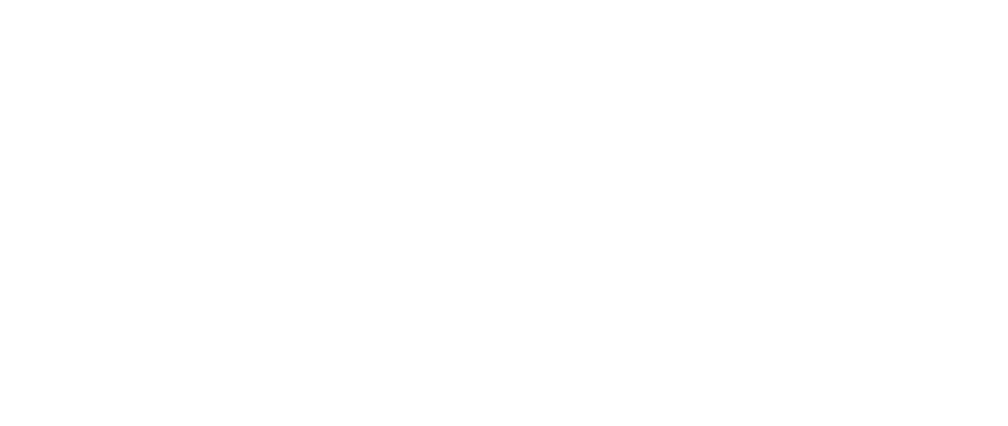
Рисунок 2. Определения системы
Вторая группа определений, возможно, менее привычна, но всё же легко узнаваема. Система — это МНОЖЕСТВО единиц, частей или элементов, организованных и связанных между собой для формирования единства. Этот термин, возможно, знаком из математики, где он встречается в теории множеств. Это определение не отсылает к естественным силам, поскольку в существенном смысле множество произвольно и зависит от намерения агента, который его задаёт. Например, «Пусть X — множество всех положительных целых чисел». Множество определяется человеческим вмешательством и выбирается в соответствии с человеческим намерением или целью при интерпретации явлений. Независимо от того, устанавливается ли множество в математике или в любой другой области человеческого опыта, единство множества определяется агентом и его/её формулировкой среды опыта, а не природой или каким-либо другим организующим принципом. Системы с этой точки зрения представляют собой способ различения. Система произвольна, и предполагается, что все различия, как описывает МакКион, изначально произвольны.
Следующая группа определений более привычна. Система — это ГРУППА единиц или элементов, образующих единое целое и действующих согласованно для достижения определённой функции или цели. Этот термин подразумевает органичные, живые взаимоотношения. В определённом смысле это естественно, но метафора естественных живых взаимоотношений распространяется и на социальные группы: семью, сообщество, политическую группу интересов. Эти единицы или элементы не обязательно являются физическими или материальными в смысле их расположения или объединения. Скорее, это функциональные единицы или элементы, относящиеся к рассматриваемым явлениям, например органы тела. Этот термин легко применим к искусству и дизайну. Труппа актёров разыгрывает драму; труппа образует группу, объединённую в драматическом представлении. Аристотель определяет элементы драмы как действие, характер, мысль, речь, мелодию и зрелище, объединённые в сюжет, который достигает эстетической и моральной цели. «Сюжет» — это система, и это группа функционирующих элементов. В дизайне элементы изделия часто определяются как способ или технология производства, материалы, форма и функция, которая должна выполняться. Системы с этой точки зрения представляют собой способ решения. Идентификация системы происходит через выявление проблемы в области явления и процесс её решения посредством анализа и синтеза. Вместо того чтобы допускать существование наименьших частей (таких как атомы или материальные части, которые невозможно уменьшить далее) или произвольность формулировки и её интерпретации, или даже объемлющий принцип, выходящий за пределы области явления, этот способ допускает наличие проблем в окружающей среде, которые могут быть систематически решены в ходе исследования, действия или творчества. Части определяются по их релевантности рассматриваемому объекту. Для изучения систему можно разложить на составляющие элементы, а затем синтезировать их с помощью логики, творчества или дизайна в новую систему, служащую новой или усовершенствованной цели.
Последняя группа определений — небольшая, но значимая — на первый взгляд, пожалуй, самая загадочная, особенно для тех, кто определяет систему как устройство частей, действующих под воздействием внешних сил. Система — это СОСТОЯНИЕ гармоничного, упорядоченного взаимодействия. Здесь акцент делается на состоянии, центральном свойстве целого. В этом определении не упоминаются части или элементы, поскольку наличие частей не рассматривается как отличительная черта системы. Таковой скорее является источник порядка и гармонии, источник, превосходящий отдельные части. Части могут быть любого рода — материальные, физические или иные, — и их масштаб может быть неограничен: не существует абсолютно наименьших частей, к которым можно свести систему. Вместо этого система объединяет части любого вида или масштаба в упорядоченное и гармоничное целое, основанное на трансцендентном разуме, идее или принципе. С этой точки зрения системы представляют собой способ ассимиляции. Ассимиляция — это процесс приближения к истинам или принципам, организующим явления. Она основана на допущении об отсутствии наименьших частей и о существовании онтологического объединяющего принципа. Более того, система может самоорганизовываться под воздействием внешних сил, при этом логика или рациональность целого выходит за рамки потребностей и конфликтов, связанных с внешними силами.
Следующая группа определений более привычна. Система — это ГРУППА единиц или элементов, образующих единое целое и действующих согласованно для достижения определённой функции или цели. Этот термин подразумевает органичные, живые взаимоотношения. В определённом смысле это естественно, но метафора естественных живых взаимоотношений распространяется и на социальные группы: семью, сообщество, политическую группу интересов. Эти единицы или элементы не обязательно являются физическими или материальными в смысле их расположения или объединения. Скорее, это функциональные единицы или элементы, относящиеся к рассматриваемым явлениям, например органы тела. Этот термин легко применим к искусству и дизайну. Труппа актёров разыгрывает драму; труппа образует группу, объединённую в драматическом представлении. Аристотель определяет элементы драмы как действие, характер, мысль, речь, мелодию и зрелище, объединённые в сюжет, который достигает эстетической и моральной цели. «Сюжет» — это система, и это группа функционирующих элементов. В дизайне элементы изделия часто определяются как способ или технология производства, материалы, форма и функция, которая должна выполняться. Системы с этой точки зрения представляют собой способ решения. Идентификация системы происходит через выявление проблемы в области явления и процесс её решения посредством анализа и синтеза. Вместо того чтобы допускать существование наименьших частей (таких как атомы или материальные части, которые невозможно уменьшить далее) или произвольность формулировки и её интерпретации, или даже объемлющий принцип, выходящий за пределы области явления, этот способ допускает наличие проблем в окружающей среде, которые могут быть систематически решены в ходе исследования, действия или творчества. Части определяются по их релевантности рассматриваемому объекту. Для изучения систему можно разложить на составляющие элементы, а затем синтезировать их с помощью логики, творчества или дизайна в новую систему, служащую новой или усовершенствованной цели.
Последняя группа определений — небольшая, но значимая — на первый взгляд, пожалуй, самая загадочная, особенно для тех, кто определяет систему как устройство частей, действующих под воздействием внешних сил. Система — это СОСТОЯНИЕ гармоничного, упорядоченного взаимодействия. Здесь акцент делается на состоянии, центральном свойстве целого. В этом определении не упоминаются части или элементы, поскольку наличие частей не рассматривается как отличительная черта системы. Таковой скорее является источник порядка и гармонии, источник, превосходящий отдельные части. Части могут быть любого рода — материальные, физические или иные, — и их масштаб может быть неограничен: не существует абсолютно наименьших частей, к которым можно свести систему. Вместо этого система объединяет части любого вида или масштаба в упорядоченное и гармоничное целое, основанное на трансцендентном разуме, идее или принципе. С этой точки зрения системы представляют собой способ ассимиляции. Ассимиляция — это процесс приближения к истинам или принципам, организующим явления. Она основана на допущении об отсутствии наименьших частей и о существовании онтологического объединяющего принципа. Более того, система может самоорганизовываться под воздействием внешних сил, при этом логика или рациональность целого выходит за рамки потребностей и конфликтов, связанных с внешними силами.
Системы и объекты мышления
Хотя общепринятое определение системы весьма неоднозначно, альтернативные определения указывают на различные объекты мышления и анализа: они представляют собой разные гипотезы или идеи о природе рассматриваемой системы. Эти гипотезы могут характеризоваться различными описаниями и предположениями.
Чтобы проиллюстрировать взаимосвязь систем и способов мышления и сделать обсуждение конкретным, можно рассмотреть собрание студентов в классе. Это собрание является системой в общепринятом смысле слова, поскольку студентов объединяет совместная работа над общей целью обучения. Но помимо общепринятого понимания системы, какой тип системы представляет собой их собрание в классе? С точки зрения дизайна, какой объект мысли должен быть в центре внимания в дизайн-мышлении? Каждый способ мышления предоставляет свой объект мысли:
Чтобы проиллюстрировать взаимосвязь систем и способов мышления и сделать обсуждение конкретным, можно рассмотреть собрание студентов в классе. Это собрание является системой в общепринятом смысле слова, поскольку студентов объединяет совместная работа над общей целью обучения. Но помимо общепринятого понимания системы, какой тип системы представляет собой их собрание в классе? С точки зрения дизайна, какой объект мысли должен быть в центре внимания в дизайн-мышлении? Каждый способ мышления предоставляет свой объект мысли:
1
Класс представляет собой устройство из расположенных мест в соответствии с административной системой правил, которые отражают различные внешние силы, такие как образовательные требования, дисциплинарное давление, контролирующее содержание, страхи и ожидания от оценок, а также более опосредованные силы экономических требований к развитию рабочей силы, а также культурные практики и нормы.
2
Класс может представлять собой множество, произвольно определяемое профессором при выборе предмета для изучения и преподавания. Однако в этом случае, после первоначального выбора предмета профессором, различные интересы и точки зрения студентов также формируют это множество, причем каждый студент имеет личный и произвольный опыт. Оживлённое обсуждение тем в аудитории отражает разнообразие индивидуальных взглядов на обсуждаемый предмет, и множество становится еще сложнее.
3
В качестве альтернативы класс может представлять собой группу с социальной организацией и определёнными ролями в учёбе, где одни учащиеся отвечают на вопросы, а другие слушают и размышляют о процессе обучения по изучаемому предмету; группа может даже разделиться на более мелкие группы или команды для работы над проектами. Но участников группы объединяет не только социальная структура, но и изучаемая дисциплина со всеми её методами и приёмами.
4
Наконец, класс, возможно, в его лучшем и наиболее идеалистическом выражении, может быть состоянием гармоничного и упорядоченного взаимодействия, сформированным и организованным истиной, исследуемой в процессе преподавания и обучения. В реальности, конечно, это состояние достижимо лишь приблизительно. Более того, оно может легко нарушиться, когда возникают конфликты и острые разногласия, а диалог перестает быть продуктивным подходом к общему пониманию. Борьба мысли за достижение общего понимания может привести класс к замешательству и неуверенности, поскольку диалог часто оставляет собрание в состоянии, несколько далёком от истинного состояния упорядоченного исследования. Тем не менее класс продвигается вперёд к истине, которую ищет о предмете обсуждения. Другими словами, группа студентов стремится стать системой и добивается успеха только тогда, когда все разделяют общую идею или ценность и понимают значение идеи, исследуемой в ходе обсуждения.
Большинство наших систем во всех сферах жизни в действительности являются вовсе не системами, а, скорее, сложными ситуациями, которые, подобно классу, стремятся стать системами.
Каждое понимание системы в этом примере — как устройства, множества, группы или состояния — приводит к разному описанию класса и взаимодействия студентов. Каждое понимание ведёт к разному объекту мысли и, следовательно, указывает на разные проблемы и вопросы, которые могут направить дальнейшее исследование идеи преподавания и обучения. И каждое понимание ведёт к разным возможностям дизайна в формировании образовательного опыта, при условии, что преподаватель или дизайнер обладает важнейшими качествами, необходимыми для проектирования: изобретательностью и воображением. В этом смысле класс служит аналогом работы дизайнеров, стремящихся к достижению цели в практическом взаимодействии с вопросами и проблемами в более широком контексте дизайн-мышления.
В чём ценность признания неоднозначности понятия «система» и размышления о его различных значениях? Отчасти ценность заключается в лучшем понимании многообразия систем, которые можно выделить в дизайне. Предмет мысли и дизайна варьируется в зависимости от значений понятия «система». Однако осознание неоднозначности понятия «система» — это также и предостережение для дизайнеров, которые размышляют о значимости системного мышления в своей работе.
Каждое понимание системы в этом примере — как устройства, множества, группы или состояния — приводит к разному описанию класса и взаимодействия студентов. Каждое понимание ведёт к разному объекту мысли и, следовательно, указывает на разные проблемы и вопросы, которые могут направить дальнейшее исследование идеи преподавания и обучения. И каждое понимание ведёт к разным возможностям дизайна в формировании образовательного опыта, при условии, что преподаватель или дизайнер обладает важнейшими качествами, необходимыми для проектирования: изобретательностью и воображением. В этом смысле класс служит аналогом работы дизайнеров, стремящихся к достижению цели в практическом взаимодействии с вопросами и проблемами в более широком контексте дизайн-мышления.
В чём ценность признания неоднозначности понятия «система» и размышления о его различных значениях? Отчасти ценность заключается в лучшем понимании многообразия систем, которые можно выделить в дизайне. Предмет мысли и дизайна варьируется в зависимости от значений понятия «система». Однако осознание неоднозначности понятия «система» — это также и предостережение для дизайнеров, которые размышляют о значимости системного мышления в своей работе.
Альтернативные взгляды на возникновение дизайна и дизайн-мышления
Существует два основных взгляда на возникновение дизайна и дизайн-мышления в контексте управления, организационного развития и коварных проблем в системах и среды человеческого опыта.
Системные мыслители, сформировавшиеся в традиции общей теории систем, кибернетики и системного мышления — Кеннет Боулдинг, Рассел Акофф, К. Уэст Чёрчмен, Питер Чекленд и многие другие — склонны предлагать схожий подход, основанный на применении системных концепций к исключительно разнообразному спектру явлений. Их взгляды схожи, поскольку они считают, что системное понимание, хотя и сугубо теоретическое при моделировании, может основываться на конкретных дисциплинах и, что наиболее важно, на стремлении к практическим действиям. Их работа носит ярко выраженный междисциплинарный характер, однако тема систем объединяет их разнообразный опыт. Как утверждает Боулдинг в своей известной статье (General Systems Theory—The Skeleton of Science), «Общая теория систем — это термин, который стал использоваться для описания уровня теоретического моделирования, находящегося где-то между крайне обобщёнными конструкциями чистой математики и конкретными теориями специализированных дисциплин».
Боулдинг был сосредоточен на создании новой науки о системах. С аналогичной возвышенной позиции Рассел Акофф объясняет: «Система — это больше, чем просто концепция. Это интеллектуальный образ жизни, мировоззрение, представление о природе реальности и о том, как её исследовать, — Weltanschauung». В своих исследованиях он стремился включить системное мышление в собственное видение дизайн-мышления; его концепция идеализированного дизайна была представлена в типичном для консультанта по управлению формате и восторженном стиле. «Идеализированный дизайн — это способ мышления об изменениях, который обманчиво прост: при решении практически любых проблем способ получить наилучший результат — представить, каким будет идеальное решение, а затем двигаться в обратном направлении — к той точке, в которой вы находитесь сегодня». Далее Акофф описывает своё представление об этапах идеализированного дизайна, которые можно применять в организациях для того, чтобы осуществить изменения, — этапы, которые большинство дизайнеров сочли бы довольно обыденными.
Другие авторы предлагают схожие взгляды, выделяя важные, по их мнению, особенности перехода от абстрактных системных концепций к практическим действиям, всегда основанным на системном анализе сложности окружающей среды и условий человеческого опыта. Конкретные черты практики дизайна в этих взглядах существенно различаются и предлагают различные версии этапов процесса проектирования, но они основаны на том, что системные теоретики считают более глубоким пониманием степени сложности окружающей среды, — возможно, не совсем мудрое наблюдение. Любопытно, однако, что лишь немногие из ранних описаний общей теории систем или системного мышления и его применения в дизайне содержат какие-либо ссылки на работы профессиональных дизайнеров и теоретиков дизайна XX века. Как будто их никогда не существовало и они никогда не придерживались взглядов на альтернативные концепции систем.
Невозможно просто сравнить конкретные практики дизайна, рассматриваемые с точки зрения общей теории систем, с исторической и современной практикой профессиональных дизайнеров, работающих в различных дисциплинах. Как отмечает Питер Джонс, существует множество различий между разными областями дизайна, что делает сравнение сложной задачей, не поддающейся решению в рамках одного исследования. Тем не менее Герберт Саймон в своих работах глубоко исследовал взаимосвязь искусственного интеллекта, систем и дизайна. Наиболее заметной стала его книга 1968 года «Науки об искусственном» («The Sciences of the Artificial»), которая считается важным вкладом в теорию дизайна. Однако более поздняя статья, опубликованная в 1987 году, свидетельствует либо о смягчении его ранней позиции, либо, как предполагают некоторые, о признании им ограниченности своих ранних взглядов и повышении оценки реальной работы дизайнеров — тех практик, которые нелегко реализовать в системах искусственного интеллекта. В любом случае, более поздняя статья Саймона представляет несколько иной взгляд на дизайн и дизайнерскую практику, чем его ранние работы. Можно предположить, что по мере развития движения системного дизайна мы увидим конвергенцию в формирующейся концепции того, что иногда называют дизайном четвертого порядка, — проектировании сложных сред, организаций и систем, в котором также участвуют и другие дизайнеры.
Какие выводы можно сделать о том, как понимается дизайн в этих работах? Ученик Акоффа, системный мыслитель Фред Коллопи пишет: «Системное мышление, как его описывали и практиковали Рассел Акофф, К. Уэст Чёрчмен, Питер Чекленд и другие, содержало в себе многие импульсы, мотивирующие применение идей дизайна к стратегии, организации, обществу и менеджменту». По мнению Коллопи, дизайн-мышление в его более широком применении к проблемам управления, организаций и общественной жизни рассматривается как метод, включающий множество конкретных техник, уже присущих системному мышлению. С этой точки зрения дизайн-мышление представляет собой консолидацию практик, которые нашли свое место в системном мышлении и теперь стали благодаря ему явными.
В отличие от этих взглядов, дизайнеры, историки и теоретики дизайна предлагают иную точку зрения на возникновение дизайна и дизайн-мышления. Они отмечают, что взаимосвязь между дизайном, менеджментом, организационным развитием и социальными инновациями была центральной темой дизайна с начала XX века в Европе, а затем в США и других странах. Признавая, что дизайнерам следует учитывать важность организаций в социальной и экономической жизни, выдающийся дизайнер Джордж Нельсон пишет: «Один из важнейших фактов нашего времени — доминирование организаций. Вполне возможно, что это самый важный факт». Затем он рассматривает тесную взаимосвязь промышленного дизайна, бизнеса и общества, перекликаясь с аналогично рассуждавшими Гропиусом, Мохой-Надем и большинством ведущих деятелей дизайна начала и середины XX века. Дальнейшее развитие дизайна и дизайн-мышления стало логическим продолжением работы графических, промышленных и интерактивных дизайнеров, направленной на решение проблем создания сред, организаций, платформ и систем, формирующих человеческий опыт в XXI веке. Это естественным образом привело к новому взгляду на стратегию, природу и предназначение маркетинга, а также на роль технологий в жизни человека. Когда дизайн начал использоваться в решении сложных проблем человеческих систем, технологий, социальной жизни и сообществ, дизайн-мышление возникло не как новый метод, а как новое культурное и гуманистическое направление и как новая практическая дисциплина в рамках более широкого поля дизайна. Оно работало бок о бок с другими дизайнерскими искусствами и дисциплинами, возникшими в XX веке, и часто интегрировало их в свою работу: коммуникационным дизайном, промышленным дизайном и разработкой продуктов, а также дизайном взаимодействия. В этом смысле дизайн-мышление иногда называют четвёртой великой дисциплиной дизайна, исследуемой в четвёртом порядке теории и практики дизайна.
Имея в виду эти два альтернативных подхода, разумно будет признать, что системные мыслители и дизайнеры исходят из различных философских предпосылок. Но также разумно будет определить, какие предпосылки часто доминируют в каждом сообществе. Для одного сообщества понятие системы обнаруживается в описанном ранее режиме конструирования. Целое — это нечто большее, чем сумма его частей, но мы понимаем целое только через расположение и конструкцию частей, формируемых целым. Цель общей теории систем — поиск понимания этого широчайшего целого, поиск «системы систем». Как пишет Боулдинг: «В последние годы ощущается растущая потребность в корпусе систематических теоретических конструкций, которые будут рассматривать общие взаимосвязи эмпирического мира». Аналогичные идеи лежат в основе других подходов к системному мышлению, и все они признают эмерджентные свойства, присущие целому как таковому, а не его частям.
В другом сообществе — сообществе дизайнеров и дизайн-мыслителей — концепция системы часто встречается в описанном ранее режиме решения. Системы находятся в промежуточном диапазоне между двумя противоположными концепциями: (1) конструированием из наименьших частей и (2) объединяющим онтологическим принципом, который превосходит и организует части любого вида. Системы, находящиеся в промежуточном диапазоне человеческого опыта, бывают многих видов. Они встречаются в формах и средах, которые мы, люди, создаём, разрушаем и переосмысливаем, чтобы адаптировать нашу жизнь к окружающей среде и историческим обстоятельствам, в которых мы живём. Система — это органическое целое, функционирующее взаимодействие элементов, стремящееся к удовлетворению конкретных потребностей и стремлений, и очевидно, что формы и целостности вокруг нас вложены во всё более крупные целостности, которые необходимо понимать, чтобы дизайн был успешен.
Конечно, обе эти системные философии периодически подвергаются проверке альтернативными подходами. С одной стороны, они проверяются посредством акцента на произвольных намерениях отдельных лиц и сообществ, создавая системы, основанные на рассмотренном ранее режиме дискриминации. С другой стороны, они подвергаются проверке через обещание состояния гармоничного и упорядоченного взаимодействия, к которому мы можем стремиться, основываясь на возможностях описанного ранее режима ассимиляции; ассимиляция может быть приближением к поиску онтологического объединяющего принципа трансцендентных ценностей — духовных, культурных или интеллектуальных. Действительно, все четыре способа мышления действуют в плюрализме человеческого сообщества. Вместе они формируют человеческий опыт и среду обитания. Они также служат для выявления зон конфликта между альтернативными принципами организации систем.
Системные мыслители, сформировавшиеся в традиции общей теории систем, кибернетики и системного мышления — Кеннет Боулдинг, Рассел Акофф, К. Уэст Чёрчмен, Питер Чекленд и многие другие — склонны предлагать схожий подход, основанный на применении системных концепций к исключительно разнообразному спектру явлений. Их взгляды схожи, поскольку они считают, что системное понимание, хотя и сугубо теоретическое при моделировании, может основываться на конкретных дисциплинах и, что наиболее важно, на стремлении к практическим действиям. Их работа носит ярко выраженный междисциплинарный характер, однако тема систем объединяет их разнообразный опыт. Как утверждает Боулдинг в своей известной статье (General Systems Theory—The Skeleton of Science), «Общая теория систем — это термин, который стал использоваться для описания уровня теоретического моделирования, находящегося где-то между крайне обобщёнными конструкциями чистой математики и конкретными теориями специализированных дисциплин».
Боулдинг был сосредоточен на создании новой науки о системах. С аналогичной возвышенной позиции Рассел Акофф объясняет: «Система — это больше, чем просто концепция. Это интеллектуальный образ жизни, мировоззрение, представление о природе реальности и о том, как её исследовать, — Weltanschauung». В своих исследованиях он стремился включить системное мышление в собственное видение дизайн-мышления; его концепция идеализированного дизайна была представлена в типичном для консультанта по управлению формате и восторженном стиле. «Идеализированный дизайн — это способ мышления об изменениях, который обманчиво прост: при решении практически любых проблем способ получить наилучший результат — представить, каким будет идеальное решение, а затем двигаться в обратном направлении — к той точке, в которой вы находитесь сегодня». Далее Акофф описывает своё представление об этапах идеализированного дизайна, которые можно применять в организациях для того, чтобы осуществить изменения, — этапы, которые большинство дизайнеров сочли бы довольно обыденными.
Другие авторы предлагают схожие взгляды, выделяя важные, по их мнению, особенности перехода от абстрактных системных концепций к практическим действиям, всегда основанным на системном анализе сложности окружающей среды и условий человеческого опыта. Конкретные черты практики дизайна в этих взглядах существенно различаются и предлагают различные версии этапов процесса проектирования, но они основаны на том, что системные теоретики считают более глубоким пониманием степени сложности окружающей среды, — возможно, не совсем мудрое наблюдение. Любопытно, однако, что лишь немногие из ранних описаний общей теории систем или системного мышления и его применения в дизайне содержат какие-либо ссылки на работы профессиональных дизайнеров и теоретиков дизайна XX века. Как будто их никогда не существовало и они никогда не придерживались взглядов на альтернативные концепции систем.
Невозможно просто сравнить конкретные практики дизайна, рассматриваемые с точки зрения общей теории систем, с исторической и современной практикой профессиональных дизайнеров, работающих в различных дисциплинах. Как отмечает Питер Джонс, существует множество различий между разными областями дизайна, что делает сравнение сложной задачей, не поддающейся решению в рамках одного исследования. Тем не менее Герберт Саймон в своих работах глубоко исследовал взаимосвязь искусственного интеллекта, систем и дизайна. Наиболее заметной стала его книга 1968 года «Науки об искусственном» («The Sciences of the Artificial»), которая считается важным вкладом в теорию дизайна. Однако более поздняя статья, опубликованная в 1987 году, свидетельствует либо о смягчении его ранней позиции, либо, как предполагают некоторые, о признании им ограниченности своих ранних взглядов и повышении оценки реальной работы дизайнеров — тех практик, которые нелегко реализовать в системах искусственного интеллекта. В любом случае, более поздняя статья Саймона представляет несколько иной взгляд на дизайн и дизайнерскую практику, чем его ранние работы. Можно предположить, что по мере развития движения системного дизайна мы увидим конвергенцию в формирующейся концепции того, что иногда называют дизайном четвертого порядка, — проектировании сложных сред, организаций и систем, в котором также участвуют и другие дизайнеры.
Какие выводы можно сделать о том, как понимается дизайн в этих работах? Ученик Акоффа, системный мыслитель Фред Коллопи пишет: «Системное мышление, как его описывали и практиковали Рассел Акофф, К. Уэст Чёрчмен, Питер Чекленд и другие, содержало в себе многие импульсы, мотивирующие применение идей дизайна к стратегии, организации, обществу и менеджменту». По мнению Коллопи, дизайн-мышление в его более широком применении к проблемам управления, организаций и общественной жизни рассматривается как метод, включающий множество конкретных техник, уже присущих системному мышлению. С этой точки зрения дизайн-мышление представляет собой консолидацию практик, которые нашли свое место в системном мышлении и теперь стали благодаря ему явными.
В отличие от этих взглядов, дизайнеры, историки и теоретики дизайна предлагают иную точку зрения на возникновение дизайна и дизайн-мышления. Они отмечают, что взаимосвязь между дизайном, менеджментом, организационным развитием и социальными инновациями была центральной темой дизайна с начала XX века в Европе, а затем в США и других странах. Признавая, что дизайнерам следует учитывать важность организаций в социальной и экономической жизни, выдающийся дизайнер Джордж Нельсон пишет: «Один из важнейших фактов нашего времени — доминирование организаций. Вполне возможно, что это самый важный факт». Затем он рассматривает тесную взаимосвязь промышленного дизайна, бизнеса и общества, перекликаясь с аналогично рассуждавшими Гропиусом, Мохой-Надем и большинством ведущих деятелей дизайна начала и середины XX века. Дальнейшее развитие дизайна и дизайн-мышления стало логическим продолжением работы графических, промышленных и интерактивных дизайнеров, направленной на решение проблем создания сред, организаций, платформ и систем, формирующих человеческий опыт в XXI веке. Это естественным образом привело к новому взгляду на стратегию, природу и предназначение маркетинга, а также на роль технологий в жизни человека. Когда дизайн начал использоваться в решении сложных проблем человеческих систем, технологий, социальной жизни и сообществ, дизайн-мышление возникло не как новый метод, а как новое культурное и гуманистическое направление и как новая практическая дисциплина в рамках более широкого поля дизайна. Оно работало бок о бок с другими дизайнерскими искусствами и дисциплинами, возникшими в XX веке, и часто интегрировало их в свою работу: коммуникационным дизайном, промышленным дизайном и разработкой продуктов, а также дизайном взаимодействия. В этом смысле дизайн-мышление иногда называют четвёртой великой дисциплиной дизайна, исследуемой в четвёртом порядке теории и практики дизайна.
Имея в виду эти два альтернативных подхода, разумно будет признать, что системные мыслители и дизайнеры исходят из различных философских предпосылок. Но также разумно будет определить, какие предпосылки часто доминируют в каждом сообществе. Для одного сообщества понятие системы обнаруживается в описанном ранее режиме конструирования. Целое — это нечто большее, чем сумма его частей, но мы понимаем целое только через расположение и конструкцию частей, формируемых целым. Цель общей теории систем — поиск понимания этого широчайшего целого, поиск «системы систем». Как пишет Боулдинг: «В последние годы ощущается растущая потребность в корпусе систематических теоретических конструкций, которые будут рассматривать общие взаимосвязи эмпирического мира». Аналогичные идеи лежат в основе других подходов к системному мышлению, и все они признают эмерджентные свойства, присущие целому как таковому, а не его частям.
В другом сообществе — сообществе дизайнеров и дизайн-мыслителей — концепция системы часто встречается в описанном ранее режиме решения. Системы находятся в промежуточном диапазоне между двумя противоположными концепциями: (1) конструированием из наименьших частей и (2) объединяющим онтологическим принципом, который превосходит и организует части любого вида. Системы, находящиеся в промежуточном диапазоне человеческого опыта, бывают многих видов. Они встречаются в формах и средах, которые мы, люди, создаём, разрушаем и переосмысливаем, чтобы адаптировать нашу жизнь к окружающей среде и историческим обстоятельствам, в которых мы живём. Система — это органическое целое, функционирующее взаимодействие элементов, стремящееся к удовлетворению конкретных потребностей и стремлений, и очевидно, что формы и целостности вокруг нас вложены во всё более крупные целостности, которые необходимо понимать, чтобы дизайн был успешен.
Конечно, обе эти системные философии периодически подвергаются проверке альтернативными подходами. С одной стороны, они проверяются посредством акцента на произвольных намерениях отдельных лиц и сообществ, создавая системы, основанные на рассмотренном ранее режиме дискриминации. С другой стороны, они подвергаются проверке через обещание состояния гармоничного и упорядоченного взаимодействия, к которому мы можем стремиться, основываясь на возможностях описанного ранее режима ассимиляции; ассимиляция может быть приближением к поиску онтологического объединяющего принципа трансцендентных ценностей — духовных, культурных или интеллектуальных. Действительно, все четыре способа мышления действуют в плюрализме человеческого сообщества. Вместе они формируют человеческий опыт и среду обитания. Они также служат для выявления зон конфликта между альтернативными принципами организации систем.
Ценность и ограничения системного мышления в дизайне
Одна из распространённых претензий к системному мышлению заключается в том, что для многих системных мыслителей система — это на самом деле редукционистская абстракция: они рассматривают системы в абстрактном моделировании как устройство или сборку частей, как говорилось выше. Иронично, что системное мышление, изначально являвшееся попыткой преодолеть редукционистские тенденции материалистической философии, просто поменяло материалистический порядок «от нижнего к верхнему» на обратный — «от верхнего к нижнему», чтобы сосредоточиться на эмерджентных свойствах материального целого. Причиной инверсии стала смена принципов среди исследователей: переход от принципа частей (из которого можно было конструировать более сложные явления) к принципу целого (по которому можно организовывать части на основе свойств сконструированного целого). Это моделирование множества факторов в ситуации, которые делают её комплексной и трудной для понимания. Однако системное мышление терпит неудачу и в решении социальных и экологических проблем в конкретных обстоятельствах жизни. Например, архитектор Александра Джайен Ли, рассматривая дизайн как метод, пишет: «Динамичный и часто импровизационный характер процесса дизайна, а также стремление к конкретному были по своей сути несовместимы с детерминированной рациональностью раннего системного подхода». Ссылаясь на точку зрения Хорста Риттеля и Мартина Уэббера, она продолжает: «Главный недостаток системного мышления заключается в том, что редукционистская природа систем не учитывает сложные социальные и экологические условия, в которых они функционируют». К этому можно также добавить, что системное мышление иногда не в состоянии адекватно учитывать конкретный опыт людей, которые живут, работают, играют и учатся в конкретных условиях своей жизни.
Напротив, в развитии дизайна с XIX века до наших дней существует точка зрения, которая периодически находит отражение в трудах таких авторов, как учёный XIX века Клод Бернар, философ Джон Дьюи, системный мыслитель Джеффри Викерс и многих других, заложивших теоретические основы дизайна. Она находит конкретное отражение в работах большинства практикующих дизайнеров и тех, кто обращается к дизайн-мышлению, подчёркивая важность экспериментирования и человеческого опыта в том, как мы формируем и преобразуем окружающий мир. С этой точки зрения система — это не совокупность или устройство частей, объединённых в целое. Напротив, для многих дизайнеров и теоретиков дизайна система лучше понимается как органическое целое единиц или элементов, образующих единое целое и функционирующих вместе, работая согласованно для достижения человеческой цели. Система — это группа, как было описано ранее, а не совокупность частей, подверженных внешним воздействиям.
Это очевидно следует из исследований антрополога Бонни Нарди и исследователя Вики О’Дэй, имеющих опыт работы и в сфере дизайна, и в IT-компаниях Кремниевой долины. В книге «Информационная экология» Нарди и О’Дэй определяют информационную экологию как систему.
Напротив, в развитии дизайна с XIX века до наших дней существует точка зрения, которая периодически находит отражение в трудах таких авторов, как учёный XIX века Клод Бернар, философ Джон Дьюи, системный мыслитель Джеффри Викерс и многих других, заложивших теоретические основы дизайна. Она находит конкретное отражение в работах большинства практикующих дизайнеров и тех, кто обращается к дизайн-мышлению, подчёркивая важность экспериментирования и человеческого опыта в том, как мы формируем и преобразуем окружающий мир. С этой точки зрения система — это не совокупность или устройство частей, объединённых в целое. Напротив, для многих дизайнеров и теоретиков дизайна система лучше понимается как органическое целое единиц или элементов, образующих единое целое и функционирующих вместе, работая согласованно для достижения человеческой цели. Система — это группа, как было описано ранее, а не совокупность частей, подверженных внешним воздействиям.
Это очевидно следует из исследований антрополога Бонни Нарди и исследователя Вики О’Дэй, имеющих опыт работы и в сфере дизайна, и в IT-компаниях Кремниевой долины. В книге «Информационная экология» Нарди и О’Дэй определяют информационную экологию как систему.
“
Мы определяем информационную экологию как систему людей, практик, ценностей и технологий в определённой локальной среде. В информационной экологии основное внимание уделяется не технологиям, а человеческой деятельности, которую обслуживают технологии.
Делая акцент на экологии как биологической метафоре, Нарди и О’Дэй определяют элементы или части системы как функциональные единицы, состоящие из людей, практик, ценностей и технологий. В свою очередь, подчёркивают они, конкретная локальная среда является ключом к дизайну. Это, очевидно, соответствует концепции системы в рамках родословной группы, о которой говорилось ранее.
“
Мы считаем экологическую метафору мощной, поскольку она учитывает эти локальные различия, одновременно отражая тесную взаимосвязь между социальными, экономическими и политическими контекстами, в которых изобретаются и используются технологии. Обзор автономных технологий на системном уровне может создать впечатление, что их влияние ошеломляющее. Но в отдельных локальных условиях мы видим более разнообразную текстуру опыта, чем с точки зрения удалённого наблюдателя. С локальной точки зрения мы видим пути к созданию осмысленного и целенаправленного использования технологий.
В своей работе 1999 года они указывают на эксперименты с соучастливым дизайном при разработке программного обеспечения, предвосхищая распространение скандинавского подхода в Европе и Соединенных Штатах.
“
Однако в Соединённых Штатах соучастливый дизайн по-прежнему остаётся преимущественно экспериментальным подходом исследователей в университетах или промышленных исследовательских лабораториях. Он не практикуется, например, в продуктовых средах, где целью является разработка широко используемого программного обеспечения в компактном виде. По иронии судьбы, разработчики продуктов опасаются, что сотрудничество с пользователями в ограниченных условиях сделает их программное обеспечение менее удобным для общего использования — возможно, лучше работать без пользователей, тогда все окажутся в одинаково невыгодном положении.
Для Клода Бернара, писавшего в XIX веке, эта тема сформировалась благодаря важности эксперимента, основанного на опыте. Предостерегая относительно стремлений человеческого разума, он пишет: «Природа человека метафизична и горда». Далее он отмечает, что люди пришли к мысли, что идеалистические творения разума также представляют реальность: человек «не содержит в себе знания и критерия внешних вещей, и он понимает, что для нахождения истины он должен… подчинить свои идеи, если не свой разум, опыту». Для размышлений о системном мышлении это полезное замечание, поскольку то, что мы часто считаем системами, на самом деле — модели систем, а не реальность явлений, которые мы хотели бы считать системными. Аналогичное различие лежит в основе замечаний Джеффри Викерса в его статье о системном анализе «Скудность решения проблем». В этой статье Викерс переходит от общей теории систем к системному анализу. Системный анализ — это оперативный аспект системного мышления, представляющий практический интерес и ценность для дизайнеров. По мнению Викерса, системный анализ — это средство понимания сложных ситуаций; способ интерпретации их сложности, выявляющий множество факторов и взаимозависимостей. В этом смысле системное мышление и системный анализ — ценный метод, позволяющий глубже понять контекст, окружающий дизайн.
Викерс утверждает, что системный анализ не выявляет проблемы, которые могут или должны быть решены человеческими усилиями с целью изменения сложных ситуаций. Именно это Викерс подразумевает под скудностью решения проблем. Решение проблем обедняется из-за чрезмерной уверенности в значимости системного мышления и системного анализа. Ограничением системного мышления для дизайна является ошибочное убеждение, что, как только мы найдем факторы, которые, по нашему мнению, усложняют ситуацию (и могут привести к нежелательным последствиям в жизни), мы сможем рационально определить проблемы, требующие решения. Для полноты решения проблем он обращается к человеческому опыту и выявлению проблем, обнаруженных в конкретном опыте в локальных условиях.
Для Джона Дьюи акцент на опыте был признанием того, что наше знание о мире приобретается не в природе, а посредством искусства. Для Дьюи это искусство — искусство эксперимента, основанное на человеческом опыте. Эксперимент, конечно же, занимал центральное место в концепции Баухауса, разработанной Гропиусом, где он стал ключевой чертой исследований и практики. Эта тема усиливает системное мышление, переходя от анализа к дисциплинам синтеза и создания среды, окружающей нас в нашей жизни. Дизайн — это дисциплина, которая преобразует окружающее в среду, часто посредством «маленьких побед» в стремлении создать более совершенные системы и среду, которые дизайнеры могут представить и реализовать при помощи творческого подхода. «Маленькие победы» — тема статьи Карла Вайка, теоретика организаций, писавшего о проблемах организационной культуры, работе по редизайну организаций, важности осмысления, определения проблем и других концепциях, имеющих отношение к нашему интересу к системному мышлению. Он пишет: «Масштабность социальных проблем часто препятствует инновационным действиям, поскольку выходит за пределы ограниченной рациональности… Люди часто определяют социальные проблемы таким образом, что это подавляет их способность что-либо с ними сделать». Он предлагает решение, известное дизайнерам с давних пор: фокус на маленьких победах как способе реагировать на изменения в нашем окружении, которые иначе кажутся невозможными в социальной жизни.
Это подводит нас к провокационному вопросу для системного мышления: ощущают ли люди систему в действительности? На этот вопрос есть два ответа. С одной стороны, невозможно ощутить систему, если под системой мы подразумеваем модель сложности ситуации — модель, описывающую прошлое, настоящее и будущее ситуации или среды. В таком случае понимание модели — это не то же самое, что переживание реальности сложной ситуации. Как часто говорят, карта — это не территория. Модель указывает на определённые взаимосвязи в ситуации, но сама ситуация выходит за рамки возможностей модели её охватить. Действительно, если под системой мы подразумеваем не модель, а фактическую совокупность всего, что произошло, происходит и произойдёт в гипотетической системе, то мы должны признать, что это находится за пределами способности восприятия любого человека. Например, можно понять концептуальную модель Солнечной системы, но наше фактическое восприятие Солнечной системы ограничено тем, сколько раз мы облетели Солнце за свою жизнь. Действительно, модель системы (включая Солнечную систему) постоянно пересматривается и модифицируется по мере того, как мы обнаруживаем новые факторы, которые до сих пор не были включены в модель.
Это подводит нас ко второму ответу. Если то, что мы переживаем, — это не сама система, которая представляет собой хрупкую и абстрактную концептуальную модель, ограниченную гордой, но слабой способностью человека охватить всю сложность окружающей среды, то что же мы переживаем? Это может быть только наш личный путь сквозь сложность ситуации: мы переживаем наши индивидуальные пути сквозь то, что, по нашему мнению, может быть системой, будь она реально существующей или потенциальной. Дизайн занимается человеческими путями. Пути дают нам понимание препятствий и проблем, с которыми мы сталкиваемся, и возможностей изменений и улучшений. Действительно, важно, чтобы, как только системное мышление и анализ очертили территорию ситуации, системное мышление затем незаметно отошло в сторону и системные мыслители обратились к практике дизайна, чтобы изучать людей и создавать пути опыта. Однако часто бывает так, что системные аналитики недостаточно осознают или практически понимают методики и концепции дизайна, которые позволяют дизайнерам выявлять проблемы, исследовать возможные решения, разрабатывать прототипы политики, закона или практики, а также тестировать и оценивать последствия. Системный анализ выполняет свою задачу, выявляя взаимозависимость множества факторов, влияющих на результат. Это полезный, но не обязательно исчерпывающий набор контекстных знаний. И разве не это знали дизайнеры с самого начала своей дисциплины, работая в таких условиях?
Системное мышление раскрывает сложность, взаимосвязи и множество взаимозависимостей, существующие в нашем окружении. Но оно приводит к действию только через дисциплину дизайна, искусство действия. Дизайн — это больше, чем набор методов и техник, к которым его часто сводят в подходах системного мышления. Дизайн и мышление, от которого он зависит, — это культурное и гуманистическое искусство, дисциплина преобразования окружающей среды в среду для человеческого опыта. Возможно, по иронии судьбы, эти среды сами по себе являются продуктами, которые можно считать системами и системами внутри систем. Действительно, в самой сложной работе дизайна четвёртого порядка дизайнеры часто пытаются создавать системы масштаба социальных, экономических и политических систем, терпя неудачи, но и добиваясь определённых успехов.
Викерс утверждает, что системный анализ не выявляет проблемы, которые могут или должны быть решены человеческими усилиями с целью изменения сложных ситуаций. Именно это Викерс подразумевает под скудностью решения проблем. Решение проблем обедняется из-за чрезмерной уверенности в значимости системного мышления и системного анализа. Ограничением системного мышления для дизайна является ошибочное убеждение, что, как только мы найдем факторы, которые, по нашему мнению, усложняют ситуацию (и могут привести к нежелательным последствиям в жизни), мы сможем рационально определить проблемы, требующие решения. Для полноты решения проблем он обращается к человеческому опыту и выявлению проблем, обнаруженных в конкретном опыте в локальных условиях.
Для Джона Дьюи акцент на опыте был признанием того, что наше знание о мире приобретается не в природе, а посредством искусства. Для Дьюи это искусство — искусство эксперимента, основанное на человеческом опыте. Эксперимент, конечно же, занимал центральное место в концепции Баухауса, разработанной Гропиусом, где он стал ключевой чертой исследований и практики. Эта тема усиливает системное мышление, переходя от анализа к дисциплинам синтеза и создания среды, окружающей нас в нашей жизни. Дизайн — это дисциплина, которая преобразует окружающее в среду, часто посредством «маленьких побед» в стремлении создать более совершенные системы и среду, которые дизайнеры могут представить и реализовать при помощи творческого подхода. «Маленькие победы» — тема статьи Карла Вайка, теоретика организаций, писавшего о проблемах организационной культуры, работе по редизайну организаций, важности осмысления, определения проблем и других концепциях, имеющих отношение к нашему интересу к системному мышлению. Он пишет: «Масштабность социальных проблем часто препятствует инновационным действиям, поскольку выходит за пределы ограниченной рациональности… Люди часто определяют социальные проблемы таким образом, что это подавляет их способность что-либо с ними сделать». Он предлагает решение, известное дизайнерам с давних пор: фокус на маленьких победах как способе реагировать на изменения в нашем окружении, которые иначе кажутся невозможными в социальной жизни.
Это подводит нас к провокационному вопросу для системного мышления: ощущают ли люди систему в действительности? На этот вопрос есть два ответа. С одной стороны, невозможно ощутить систему, если под системой мы подразумеваем модель сложности ситуации — модель, описывающую прошлое, настоящее и будущее ситуации или среды. В таком случае понимание модели — это не то же самое, что переживание реальности сложной ситуации. Как часто говорят, карта — это не территория. Модель указывает на определённые взаимосвязи в ситуации, но сама ситуация выходит за рамки возможностей модели её охватить. Действительно, если под системой мы подразумеваем не модель, а фактическую совокупность всего, что произошло, происходит и произойдёт в гипотетической системе, то мы должны признать, что это находится за пределами способности восприятия любого человека. Например, можно понять концептуальную модель Солнечной системы, но наше фактическое восприятие Солнечной системы ограничено тем, сколько раз мы облетели Солнце за свою жизнь. Действительно, модель системы (включая Солнечную систему) постоянно пересматривается и модифицируется по мере того, как мы обнаруживаем новые факторы, которые до сих пор не были включены в модель.
Это подводит нас ко второму ответу. Если то, что мы переживаем, — это не сама система, которая представляет собой хрупкую и абстрактную концептуальную модель, ограниченную гордой, но слабой способностью человека охватить всю сложность окружающей среды, то что же мы переживаем? Это может быть только наш личный путь сквозь сложность ситуации: мы переживаем наши индивидуальные пути сквозь то, что, по нашему мнению, может быть системой, будь она реально существующей или потенциальной. Дизайн занимается человеческими путями. Пути дают нам понимание препятствий и проблем, с которыми мы сталкиваемся, и возможностей изменений и улучшений. Действительно, важно, чтобы, как только системное мышление и анализ очертили территорию ситуации, системное мышление затем незаметно отошло в сторону и системные мыслители обратились к практике дизайна, чтобы изучать людей и создавать пути опыта. Однако часто бывает так, что системные аналитики недостаточно осознают или практически понимают методики и концепции дизайна, которые позволяют дизайнерам выявлять проблемы, исследовать возможные решения, разрабатывать прототипы политики, закона или практики, а также тестировать и оценивать последствия. Системный анализ выполняет свою задачу, выявляя взаимозависимость множества факторов, влияющих на результат. Это полезный, но не обязательно исчерпывающий набор контекстных знаний. И разве не это знали дизайнеры с самого начала своей дисциплины, работая в таких условиях?
Системное мышление раскрывает сложность, взаимосвязи и множество взаимозависимостей, существующие в нашем окружении. Но оно приводит к действию только через дисциплину дизайна, искусство действия. Дизайн — это больше, чем набор методов и техник, к которым его часто сводят в подходах системного мышления. Дизайн и мышление, от которого он зависит, — это культурное и гуманистическое искусство, дисциплина преобразования окружающей среды в среду для человеческого опыта. Возможно, по иронии судьбы, эти среды сами по себе являются продуктами, которые можно считать системами и системами внутри систем. Действительно, в самой сложной работе дизайна четвёртого порядка дизайнеры часто пытаются создавать системы масштаба социальных, экономических и политических систем, терпя неудачи, но и добиваясь определённых успехов.
Поиск общего
Возникновение дизайн-мышления — общая тема, прослеживаемая как в системном мышлении, так и в дизайне, но начало и конец этих нарративов существенно различаются. Системное мышление начинается с концепции систем и заканчивается необходимостью дизайнерских действий. Дизайн-мышление начинается с творческого исследования в действии и завершается созданием систем разного масштаба, от коммуникаций и артефактов до видов деятельности и организаций. Есть ли что-то общее между системным и дизайн- мышлениями, что выходит за рамки методологического сближения? Ответ может заключаться в общем интересе к принципам действия и принципам, подразумеваемым в различных концепциях систем и дизайна, существующих в теории и на практике. В условиях новых технологических достижений и новых индивидуальных и социальных ожиданий появляется возможность открыто сформулировать принципы дизайна и принципы систем в новом диалоге о волнующих нас вопросах. Нам следует обсудить причины тех решений, которые мы принимаем в процессе проектирования, и то, как дизайн-мышление может помочь нам преодолеть коварные проблемы, возникающие в результате конфликтов в этических вопросах.
Не стоит ожидать, что это обсуждение приведёт к единству во взглядах на принципы мира, который мы создаём. Наши сообщества отражают важный плюрализм мнений, являющийся источником силы и непрекращающегося творчества. Однако следует помнить, что возникновение системного мышления изначально основывалось на признании важности принципов и, в частности, на восприятии и открытии новых принципов в материальном мире, а именно — на концепции целостности, превосходящей сумму частей. Само слово «система» подразумевает принцип, поскольку система обеспечивает организацию и взаимозависимость частей для достижения общей цели. Таким образом, все наши обсуждения «системы», будь то среди системных мыслителей или среди дизайнеров, основываются на природе принципов. Однако в наше время, одержимое данными и фактами, нам трудно обсуждать природу принципов или даже признавать их существование и направляющее действие в организации нашей работы и жизни.
Когда принципы упоминаются, они обычно трактуются как расплывчатые намеки на цель дизайна — служить людям; или, что чаще, — как узкие рекомендации по методам практики. В любых дискуссиях последних лет практически не звучат слова о том, (1) что такое принцип, (2) какую роль принцип играет в организации сложности практики дизайна и (3) как принцип влияет на значимость дизайна для отдельных людей, общества или культуры. Тем не менее принципы — это и отправная, и конечная точкой исследования. Они направляют наше внимание на вопросы и проблемы, которые следует рассмотреть, на материалы и компоненты системы, на порядок действий в последовательности операций или производительности системы и на конечную цель, на которую ориентирована система, — любой продукт человеческого труда.
Существует несколько областей, где системное мышление и дизайн-мышление могли бы объединиться в диалоге о принципах. Эти темы время от времени возникают в литературе обоих направлений, хотя им редко уделяется должное внимание. Именно взаимодействие этих областей выявляет некоторые из важнейших конфликтов и дилемм нашего времени. Они отражены в дискуссиях о добре, справедливости, пользе и удовлетворении в человеческом опыте (рис. 3).
Не стоит ожидать, что это обсуждение приведёт к единству во взглядах на принципы мира, который мы создаём. Наши сообщества отражают важный плюрализм мнений, являющийся источником силы и непрекращающегося творчества. Однако следует помнить, что возникновение системного мышления изначально основывалось на признании важности принципов и, в частности, на восприятии и открытии новых принципов в материальном мире, а именно — на концепции целостности, превосходящей сумму частей. Само слово «система» подразумевает принцип, поскольку система обеспечивает организацию и взаимозависимость частей для достижения общей цели. Таким образом, все наши обсуждения «системы», будь то среди системных мыслителей или среди дизайнеров, основываются на природе принципов. Однако в наше время, одержимое данными и фактами, нам трудно обсуждать природу принципов или даже признавать их существование и направляющее действие в организации нашей работы и жизни.
Когда принципы упоминаются, они обычно трактуются как расплывчатые намеки на цель дизайна — служить людям; или, что чаще, — как узкие рекомендации по методам практики. В любых дискуссиях последних лет практически не звучат слова о том, (1) что такое принцип, (2) какую роль принцип играет в организации сложности практики дизайна и (3) как принцип влияет на значимость дизайна для отдельных людей, общества или культуры. Тем не менее принципы — это и отправная, и конечная точкой исследования. Они направляют наше внимание на вопросы и проблемы, которые следует рассмотреть, на материалы и компоненты системы, на порядок действий в последовательности операций или производительности системы и на конечную цель, на которую ориентирована система, — любой продукт человеческого труда.
Существует несколько областей, где системное мышление и дизайн-мышление могли бы объединиться в диалоге о принципах. Эти темы время от времени возникают в литературе обоих направлений, хотя им редко уделяется должное внимание. Именно взаимодействие этих областей выявляет некоторые из важнейших конфликтов и дилемм нашего времени. Они отражены в дискуссиях о добре, справедливости, пользе и удовлетворении в человеческом опыте (рис. 3).
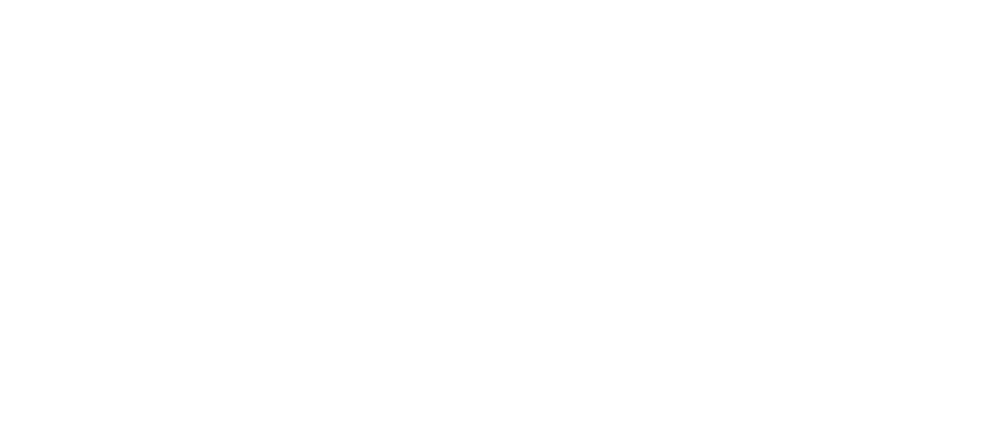
Рисунок 3. Разнообразные основные принципы дизайна
Взаимодействие принципов в этих областях часто приводит к дилеммам в таких вопросах, как конфиденциальность, комфорт, устойчивость, процветание, справедливость и неравенство, которые проявляются в проблемных системах.
Пренебрежение принципами порой приводит к тому, что дизайнеры и системные мыслители становятся соучастниками провалов крупных платформ — технологических или социальных, — которые влияют на нашу жизнь. Преодоление этого пренебрежения — задача, к которой сообщества дизайнеров и системщиков могут быть недостаточно подготовлены, поскольку природа и влияние принципов на создание и проживание нашей жизни обсуждаются редко. Тем не менее именно к такому вызову дисциплины и наши разнообразные философские убеждения могут обратиться, если мы проявим волю и неуемное воображение, присущие креативному дизайну.
Пренебрежение принципами порой приводит к тому, что дизайнеры и системные мыслители становятся соучастниками провалов крупных платформ — технологических или социальных, — которые влияют на нашу жизнь. Преодоление этого пренебрежения — задача, к которой сообщества дизайнеров и системщиков могут быть недостаточно подготовлены, поскольку природа и влияние принципов на создание и проживание нашей жизни обсуждаются редко. Тем не менее именно к такому вызову дисциплины и наши разнообразные философские убеждения могут обратиться, если мы проявим волю и неуемное воображение, присущие креативному дизайну.

